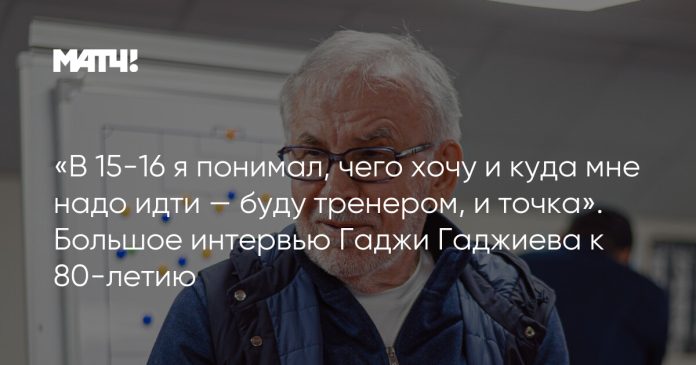Сегодня, 28 октября, исполняется 80 лет Гаджи Гаджиеву — человеку, который оказал огромное влияние на развитие футбола не только в Дагестане, но и в России в целом. Именно под руководством Гаджиева «Анжи» в первом же своем сезоне в высшей лиге занял четвертое место, а «Крылья Советов» при Гаджи Муслимовиче завоёвывали бронзу, что до сих пор остается лучшим результатом в истории самарского клуба. И это только те достижения, которые сразу приходят в голову.
Сейчас специалист снова поднимает футбол в родной республике, занимая должность президента махачкалинского «Динамо». И стоит признать, небезуспешно — дагестанский коллектив при довольно скромном бюджете стал главным открытием прошлого чемпионата. Естественно, мы не могли пройти мимо 80-летия Гаджиева и прилетели в Дагестан незадолго до дня рождения легендарного тренера, чтобы поговорить с ним для «Матч ТВ» о его жизни и главном деле этой самой жизни.
Главное в интервью:
- с чем в основном связаны мысли Гаджиева сейчас, что для него самое важное в воспитании детей, и сложно ли, когда младший ребенок появляется, когда тебе уже 69 лет;
- возникает ли периодически желание вернуться на тренерскую скамейку или окончательно уйти на пенсию;
- как он мог спокойно спорить с Лобановским и как относится к словам Мостового о тренерском деле;
- воспоминания о детстве в послевоенные годы, реакция страны на смерть Сталина, негативное отношение к Горбачеву и Ельцину;
- как не удалось поступить в университет и пришлось работать на заводе, как он начал тренировать в юном возрасте — в том числе рассказ о том, как выгнал из состава команды 15 человек за несоблюдение режима;
- как удалось выиграть Олимпиаду-1988, как с развалом СССР произошел раскол и в футболе, и как тренерские распри в конце 90-х побудили его возглавить «Анжи»;
- почему «Анжи» со множеством звезд в составе ожидал крах, и что дали команде Роберто Карлос и Самюэль Это’О;
- помогает ли махачкалинскому «Динамо» сейчас Керимов, есть ли у клуба уверенность в завтрашнем дне и какую цель ставит Гаджиев на ближайшие пять лет.
«У нас в семье с детства не отмечали дни рождения. Другое время было. Стояли в очереди за хлебом по ночам. Это наложило отпечаток на дальнейшую жизнь»
— Интервью выйдет в день вашего 80-летия. С какими чувствами встречаете эту дату?
— Они главным образом завязаны на клубе, команде. Это не одно и то же, и важно, чтобы клуб и команда были единым целым, хотя порой эта цепочка рвется. При этом клуб не может представлять серьезное значение, если у него плохая команда. А команда не может долго держаться где-то наверху, если уровень финансирования и организации клуба невысок.
Ну и надо четко понимать, где мы находимся — на каком уровне своего развития. В таком случае ты знаешь, как и куда дальше идти. Чрезмерно быстрое развитие часто приводит к стремительному падению. Почему это происходит? Как говорит один из лучших управленцев мира Ицхак Адизес: «Людям, которые быстро достигают результата, начинает казаться, что они могут ходить по воде». Порой мы это наблюдаем и у себя, хотя очевидно, что частенько хромаем даже на обе ноги, а не как президент клуба — на одну (смеется).
— То есть и ваш клуб планирует развиваться постепенно?
— На самом деле мы эти годы развивались очень быстро. Вчера были во Второй лиге, а сегодня играем в РПЛ. И нам надо к этому относиться серьезно, не думать, что завтра «сможем ходить по воде» и станем чемпионами, — это длинная дорога. В клубе, команде мы это понимаем. С болельщиками сложнее — они всегда хотят быть первыми.
— В общем, вы даже в преддверии 80 лет весь в работе…
— В преддверии, которого не ощущаю… Да, в работе и ещё в семье. Сейчас как раз младший сын поступил в университет имени Баумана. Приятное событие. Мне казалось, ему тяжело будет туда поступить, что он не очень организованный, слишком много времени тратит на пустое. Поступил — и слава богу, но поступить проще, чем отучиться. Хотелось бы, чтобы он это понимал.
— Ваш старший сын уже дебютировал за махачкалинское «Динамо». Для вас это особенно важно?
— Конечно. Но понимаю, что ему сложно здесь находиться. Он несколько раз говорил: «Давай я уйду в какой-нибудь другой клуб». Считает, что именно мои жесткие требования не позволяют ему чаще выходить на футбольное поле. Может, так и есть.
Это реальность, с которой сталкиваются дети, младшие братья известных людей. Так было, например, с Мишей Маркаровым, Камилем Агаларовым и другими. Я вспоминаю Володю Федотова. Его отец Григорий был выдающимся футболистом, его имя носит клуб бомбардиров нашей страны. Мы с Володей дружили, начиная с Высшей школы тренеров. Он рассказывал о жесткой критике в свой адрес, бесконечных ссылках на отца и безумных сопоставлениях. В конечном итоге Володя все-таки весьма прилично заиграл, даже в сборную попал. И тренер был замечательный с большим человеческим ресурсом.
— У вас большая семья: трое детей после первого брака, четыре ребенка в нынешнем браке. На праздники, в том числе на дни рождения, всей семьей масштабно собираетесь?
— По возможности. В основном тихо проходит все. В связи с этим вспоминаю историю с Никитой Павловичем Симоняном. Как-то звоню ему на юбилей, хочу поздравить. И никак не дозвонюсь. Дозвонился, когда уже день рождения прошел, и он объясняет: «Ну 300 звонков в сутки! Как это можно выдержать? Я и уехал». Вот я так иногда чувствую себя.
У нас с детства вообще дни рождения не отмечали. Только раз в 12 лет было нечто похожее. Но в этой моей семье другой подход. Тут моя супруга Лена и каждый месяц у детей отмечала.
То время было другое действительно: отец с фронта пришел инвалидом, подорвался на мине, достаточно долго был в тяжелом положении. У него вначале был один госпиталь, потом второй… Остался без передней части стоп. Но в конечном итоге за счет характера и дисциплины он из этой ситуации выбрался.
И жизнь в целом тогда совсем другая была.
— Тяжело наверняка было.
— Конечно. В очереди за черным хлебом стояли по ночам, да много чего было. И всё это наложило отпечаток на дальнейшую жизнь. Поэтому какие-то дни рождения было не принято отмечать. Другое дело, когда юбилейные, круглые даты, то тут да, собирались друзья, тренеры… В некоторых случаях уезжали с семьей в горы — вот и всё.
Но сейчас ко мне уже обращаются, кого пригласить на 80-летие, отметить которое — инициатива Сергея Алимовича Меликова. Он относится к редкому типу людей: продвигаясь по карьерной лестнице, все равно остается однозначно простым человеком, народным.
— Вы можете сказать, что у вас дружеские отношения?
— Стараюсь не переступать эту грань никогда. У меня со многими главами регионов были хорошие отношения. С руководителями регионов порой было проще выстраивать отношения, чем с некоторыми другими чиновниками. Но понимаю, что все равно надо чувствовать меру. Так что говорить, что у нас дружба, я бы не стал. Не беру на себя смелость, хотя отношения и хорошие, добрые.
Могу сказать, что очень уважительно отношусь к нему и его вкладу не только в продвижение нашего клуба, но и к его поступкам в интересах республики. Он 24 часа в сутки посвящает этой работе, поэтому и знает все детально. Как, собственно, и должно быть у настоящих профессионалов.
«Не ощущаю, что энергии стало заметно меньше. Ни дня не было желания уйти на пенсию»
— Семь детей — это много для Дагестана или мало?
— Нормально. Но главное — не сколько детей, а сможешь ли ты помочь им встать на ноги, получить образование, сделать относительно счастливой их жизнь. Понятное дело, что в конечном итоге счастье любого человека в его руках. В Дагестане долг родителей — заложить основы финансового благополучия детей и дать им достойное воспитание, в том числе в традициях нашего народа: привить уважение к старшим, к родителям и прочее.
— Вы строгий отец?
— Строгим надо быть порой. Как говорится, до пяти лет ребенок царь, до пятнадцати раб, а затем равный и друг. Все-таки свободу ребенок должен получать тогда, когда он сможет хотя бы мало-мальски точно понять, что такое мир, в котором он находится. Сейчас, наверное, это чуть попозже происходит, а в наше послевоенное время взрослели раньше. Я лет в 15-16 понимал, чего хочу и куда мне надо идти — буду тренером, и точка. Сейчас к этому можно пару-тройку годиков добавить. Хотя паспорта выдают и раньше.
— Последний ребенок у вас родился в 2014 году. Вам уже было 69 лет. Сложно ли быть возрастным папой? И когда такая большая разница в возрасте с детьми?
— Смотря что понимать под возрастом. Он же определяется не только днем рождения, датой в паспорте. Есть ещё и биологический. Вот Криштиану Роналду сколько лет? По его игре и тому, как он радостно переживает происходящее на поле, можно сказать, что он похож где-то на дебютанта!
— Ну работоспособности где-то больше, чем у молодых футболистов.
— Вот это и есть биологический возраст. Какой он у меня — я не знаю. Может быть, 60 лет (смеется). Но с новорожденным (ребенком) в 69 было легче, чем в условные 30-40 лет.
Да, ноги точно передвигаю медленнее, но покопаться в проблемных вопросах игры и подготовки с утра нет проблем. Не ощущаю, что в этом смысле энергии стало заметно меньше. Видимо, это и есть какой-то возрастной ориентир — когда ты в состоянии наполнить своей энергией эмоции, чувства и мысли. Когда ты способен их передать другим, как это сделал пару недель назад на конференции тренеров 84-летний Вячеслав Колосков.
— Как себя в плане здоровья чувствуете?
— Нормально. Колени, суставы, конечно, беспокоят, но зато сердце к стенту, хвала всевышнему, адаптировалось неплохо. Тема как раз к 80-летию (смеется)?
Не помню, сколько точно операций было — может, 14-15. В общем, море за жизнь. Это спутники жизни такие. Но справляться с этим можно. Пока справляюсь (смеется).
— При этом вы часто рассказывали, что всегда следили за здоровьем: старались правильно питаться, до 30 лет не пробовали алкоголь…
— Да, не было. Москва испортила (смеется). Когда приехал в ВШТ. Но и тогда, и сейчас редко когда чуть больше 100 граммов выпьешь. Небольшими дозами все и ограничивается, по сути.
— В какой момент вы начали особенно следить за питанием?
— Возможно, послевоенные годы повлияли на сдержанность в еде. А лет в 15-16 стал читать спортивные книги, журналы, в том числе все, что связано с диетой… Вот где-то в 60-х читал книгу директора Института питания СССР Петровского. И стал придерживаться каких-то рекомендаций.
— Сейчас вы не тренируете — в том смысле, как это было раньше. Не возникает ли периодически желание вернуться на тренерский мостик?
— Нет, возвращаться не надо. Хотя, если сравнивать, сейчас я лучше знаю, что такое игра и подготовка, чем на любом этапе своей прошлой тренерской жизни. Другое дело, что в те годы наверняка энергии было больше. А для тренера энергия важна. С ее помощью он может поднять игроков на уровень их максимальных возможностей. Еще для этого нужны желание, страсть. Думаю, что у меня сейчас все ориентировано на передачу знаний и опыта тем, с кем работаю.
И это проявилось не сейчас, а гораздо раньше. Мне кажется, еще в Перми, когда работал в «Амкаре» с Вадимом Евсеевым, Андреем Карякой и Гораном Алексичем. Уже тогда в принципе старался, чтобы на поле больше работали они, а я с ними в основном общался за его пределами. Естественно, на поле тоже присутствовал, но старался все точки над i расставить до тренировки и игры.
— Честно, спустя годы работы в футболе хотя бы иногда просыпаетесь с мыслью окончательно на пенсию уйти?
— Ни дня не было такого желания. Есть желание по-прежнему продвигать футбол в Дагестане. Сейчас мы достаточно много сделали для этого: программу развития футбола приняли, подписали соглашение с РФС и Минспортом России. Сейчас у нас в Дагестане футбольный бум, можно сказать. Очень много талантливых ребят. В турнирах школьников участвует огромное количество мальчишек, 250-260 тысяч. Соревнований проводится много… В этом есть и наша заслуга — динамовская.
«Могли спорить с Лобановским, пока не наступали сумерки. Никакого высокомерия не было»
— Тот факт, что вы за свою жизнь поработали не только тренером, но и в Федерации футбола СССР, в Российском футбольном союзе, помогает вам сейчас быть президентом клуба?
— Безусловно, да. Потому что, работая в федерации, принимал активное участие в составлении комплексных целевых программ подготовки сборных команд страны, развития футбола в СССР, России. Мне обычно поручалось научно-методическое направление. Эта работа в любом случае помогает, поскольку управление что в одной области, что в другой все равно имеет общие принципы. Важно понимать, в каком состоянии находится объект, которым ты управляешь, и какие цели стоят. Под эти цели выбирается программа, и ее нужно правильно реализовать.
Другое дело, что понимать и сделать — две большие разницы. Реализовать задуманное всегда сложнее. На практике ведь ты всегда встречаешься с разными нюансами.
Считаю, что работа, проделанная нами в махачкалинском «Динамо», подчеркивает: ничего серьезного нельзя сделать в одиночку, без хорошей команды в управлении — у нас она и была, и есть.
— Если говорить о личностях, то кто особенно сильно повлиял на вас в профессиональном плане?
— Учителей вообще невозможно перечислить. Их огромное количество, и едва ли назову всех, кому признателен. Первыми учителями считаю тех, чьи книги я читал с юности. Например, Аркадьева. Потом отнесу сюда наших великих тренеров: Качалин, Маслов, Якушин… Ну и тех специалистов, с которыми сам непосредственно контактировал: Базилевич, Бышовец, Лобановский и другие. И, конечно же, нельзя не назвать преподавательский состав ВШТ. Там было созвездие ученых мирового уровня: и Волков, и Матвеев, и Зациорский, и Годик. Позже много лет сотрудничал с профессором Селуяновым. Все они сформировали мое мировоззрение. Они настолько хорошо знали предмет, что могли раскрывать любые проблемы самыми простыми словами.
С точки зрения понимания деталей игры и подготовки очень многое дала совместная работа с Бышовцем, Базилевичем, Лобановским. С Базилевичем в ЦСКА проработал три года, с Бышовцем приобрел бесценный опыт побед в олимпийской команде, сборы которой в Новогорске часто совпадали с тренировками национальной сборной СССР. После того как у нас занятие заканчивалось, я мог понаблюдать за основной сборной. И затем, пока сумерки не наступали, могли о чем-то спорить с Лобановским…
— Прямо могли реально поспорить с мэтром?
— Вполне. Доступность всех названных выше была абсолютной — никакого высокомерия, а постоянный интерес к новому: «Что еще?». Так любил говорить Бышовец, и это же интересовало каждого из них. За моими же плечами уже была большая аналитическая работа, кандидатская диссертация. Информации для обсуждения вопросов подготовки и игры хватало, а времени всегда было мало.
— Эти научные работы сильно ценились тогда?
— Да, если результаты таких работ соответствовали требованиям игры и подготовки. Иначе говоря, если они представляли конкретную практическую ценность.
— Есть ощущение, что сейчас подобные вещи ценятся меньше.
— Заметно меньше. Прежде клубы были обязаны иметь комплексные научные группы, анализировать тренировочные и соревновательные нагрузки, проходить обследования, полевые тестирования и сдавать соответствующие отчеты. А достижения киевлян, например, базировались на научных программах профессора Петровского и его ученика Зеленцова, бывшего руководителем научной группы в киевском «Динамо».
— Сейчас же будто часто слышно позицию, что тот или иной тренер не может тренировать, если он не играл на высоком уровне и его образование не учитывается.
— Позиций может быть сколько угодно. Критерий истины — практика. А она показывает, что это разные профессии, в которых игрок невысокого класса нередко добивается гораздо больших успехов, чем многие выдающиеся футболисты. Например, Жозе Моуринью, Леонид Слуцкий, Мурад Мусаев. Спору нет, что игровая практика дает хороший шанс большим игрокам стать классными тренерами. Но бог одной рукой дает, а другой может отнять. Именно так он может поступить и с тем, кому не дал таланта игрока, дав ему взамен способности учить других тому, чего не смог добиться сам. А споров в футболе должно быть много — это нормально. Дискуссии нужны. И как раз упомянутые выше тренеры следовали новым направлениям, хотели вступать в дискуссию и хотели знать больше. Они привлекали ученых к своей работе.
Вот кто я такой вообще? Ну, закончил тогда ВШТ, да, работал в лаборатории теории и методики футбола в научно-исследовательском институте и писал диссертацию. Ну и что? Но Базилевич узнал, что есть во мне какие-то задатки, и пригласил к себе возглавить комплексную научную группу ЦСКА. Тогда такую группу обязаны были иметь все клубы высшей лиги. И не успел я появиться там и провести с ним несколько бесед, он уже начал говорить прессе, что я возглавил это направление. То есть тогда, наоборот, считалось важным подчеркнуть, что мы продвигаемся в этом направлении и совершенствуем методику. Мы ей придавали гораздо больше значения, чем сейчас. Сегодня в основном разговоры о том, кого и за сколько купили и продали.
— Такие разговоры и в европейском футболе, но будто и другой уровень глубины и подготовки. Разве нет?
— Потому что мы это методическое направление потеряли с развалом СССР, а многие большие зарубежные клубы — наоборот. Исследовательская работа там ведется всегда, и там очень хорошо понимают, что это надо продвигать и во всем совершенствоваться, если ты хочешь подняться выше. Здесь тормозить нельзя. Нельзя ориентироваться только на то, что ты знал вчера, и делать ставку только на поиск талантливого игрока.
— Почему в России в этом плане все застопорилось?
— В первую очередь потому, что Союз развалился, и потому, что обсуждений нет. Раньше основы игры и подготовки обсуждались системно, дискуссии были. Сейчас и приблизительно нет такого уровня дискуссии, глубокого анализа нет, он исключительно поверхностный. Хотя стоит отметить, что в телевизионных передачах этот момент стал чуть получше по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами. Программы стали лучше, специалисты чуть глубже разбирают игру и придают этому разбору хоть какое-то значение. А ведь в какой-то момент и этого даже не было.
— Сильных тренеров сейчас появляется мало?
— Действительно мало, но они есть. Например, Семак, Мусаев, Талалаев, Галактионов. Я могу упустить какое-то имя сейчас, но, мне кажется, у нас появилась неплохая группа молодых специалистов. И важно, чтобы они продвигались с точки зрения более глубокого познания игры и подготовки, чтобы у тренера всегда возникали вопросы. Когда они у него есть, он сам себе их задает, сам с собой и не только спорит — только тогда может куда-то дальше дойти.
И для этого нужно обязательно с кем-то из коллег обсуждать детали. Выше я уже говорил о наших дискуссиях. Но ведь разговаривал не только с тренерами. Если у меня возникали вопросы к одному тренеру или ученому, то я потом их задавал и другому, чтобы прояснить вопрос более точно. Так и начинал понимать побольше.
Тот же Талалаев не посчитал зазорным обратиться ко мне с вопросом, когда мы на сборах были в гостинице в Турции. И мы поговорили по разным темам. Важно, чтобы между тренерами таких встреч было больше.
— Как вы относитесь в таком случае к словам Александра Мостового, когда он говорит в духе: «Я все знаю про футбол, я в него играл, а этот тренер не играл, потому недостоин тренировать»?
— Может быть, он где-то и прав. Но это частности, жизнь многообразна, и каждую ситуацию отдельно мы с вами разобрать никак не сможем.
Вспоминается забавный случай с Карякой, когда он только закончил карьеру футболиста, а потом вошел в наш тренерский штаб в Перми. Мы сидим и пьем чай с другими членами штаба, к нам приходит Каряка после разговора с футболистами в раздевалке и говорит: «Ну неужели я таким был мудаком еще шесть месяцев назад?» (смеется). То есть шесть месяцев прошло с тех пор, как он футбольное поле поменял на тренерскую скамейку, которая ему «помогла» иначе взглянуть на игру. И это нормально.
С удовольствием пригласим Александра Мостового в махачкалинское «Динамо», тем более есть что вспомнить из того прошлого, когда он блистал на поле.
Хороший тренер вам всегда скажет примерно следующее, что говорили и наши ветераны раньше: «40 лет пробыл в профессиональном футболе и понял, что ничего не знаю». У хорошего тренера всегда есть вопросы. Вот вы обратитесь к Юрию Семину — он подтвердит, что всегда сам с собою спорит, да и у других спрашивает, что верно в подготовке, что нет. И про себя скажу то же самое.
— У молодых тренеров тоже?
— Конечно. Их мнения всегда интересны. Они помогают расти и им, и мне, поэтому требую от них высказываться. Но главное — приводить аргументы, доказательства в своих суждениях. Вновь о Каряке, любившем просто сказать: «Я так считаю». Этого мало, верно? Надо бы сказать, почему ты так считаешь. Нужна доказательная база.
— Мы уже упомянули также вашу методическую и функционерскую деятельность во времена СССР. А каково было в целом работать бок о бок с большими футбольными функционерами того времени?
— И с Симоняном, и с Колосковым, и со многими другими работниками, которые тогда ходили по коридорам управления футбола, а потом и РФС, было работать комфортно. Это были большие специалисты, авторитетные уважаемые люди. Уважаемые и за знания, и за человеческие качества.
Это во многом способствовало тому, что Союз был тогда страной, сборная которой регулярно попадала в финалы, а за второе место на чемпионате Европы могли уволить главного тренера. Чемпионат Советского Союза входил в число пяти лучших в Европе, несмотря на то что футболистам платили фактически из-под стола. Все-таки профессионального футбола не было как такового.
Колосков же вообще выдающийся управленец. Он на протяжении десятилетий был вице-президентом ФИФА — к его мнению, к его голосу прислушивались и там. Он, в частности, помог организовать чемпионат мира 2018 года в нашей стране.
— Сейчас менеджеры в российском футболе далеки от его уровня?
— Если говорить об РФС, то нынешние менеджеры в любом случае сильнее тех, кто был до них. И Дюков, и его помощники на порядок лучше своих предшественников. Сильнее всех, кто был после Колоскова. Это мне так кажется.
«Страна плакала, когда умер Сталин. У нас в семье к нему хорошо относились. А про Горбачева я только со временем осознал, что он просто болтун»
— Как уже было отмечено, вы родились в послевоенную эпоху в Буйнакске. Что особенно запомнилось из того времени?
— Уже говорил, что отец вернулся с фронта с инвалидностью. По образованию был педагогом. На фронт поехал, окончив в 41-м военное училище. И там стал командовать взводом, вернулся лейтенантом. После возвращения стал народным судьей. Он очень не любил эту профессию в силу необходимости участвовать в приговорах. Времена были жесткие, и за корку хлеба отвечали головой. По-другому, скорее всего, и нельзя было. Потом его направили на учебу в Москву, отучился там, вернулся и работал руководителем разных организаций.
Конечно же, послевоенные годы были непростые. Не только у нас, а вообще у всей страны. Но вместе с тем это были такие радостные годы, которые сегодня трудно представить. Да, за хлебом стоят очереди, в магазинах только тушенка и консервы какие-то, но в то же время люди ходят по улицам и поют народные песни. Под гармошку, под гитару. Они радуются жизни: радуются, что закончилась война и мы победили. Это трудно представить современному человеку. То есть счастья было больше. Вот сейчас вроде магазины другие, машины другие, а той же радости у населения не видно.
— Получается, в СССР было лучше?
— Вот в то время — безусловно. В конце же, ближе к распаду Союза, пошла возня… Отношения стали ломаться, поменялись ценности: хлеб, который был всему голова и горбушку которого делили пополам, перестал быть символом дружбы, теплых отношений. Медный пятак разобщил людей. Понятно, что каждый по-своему смотрит на то, что такое счастье и что такое счастливая жизнь. Кому-то лучше особняк с высоким забором и перископом, чтобы его не дай бог никто не сглазил, а кому-то наоборот — как там у Розенбаума в песне про старые и новые отношения: «Новый год всем обществом… и чтоб по-человечески, по-отечески».
Прежде люди были друг другу ближе и поддерживали. Раньше соседи просто стучались друг к другу: «Это дай, то дай». И все готовы были делиться. Сейчас люди даже не знают, кто на этаже живет. Другая жизнь. Мы знали не только всех, кто на этаже, но и всех в городе. Кто просто идет по улице и песни поет — ты его знаешь. Я тоже ходил, кстати, и пел: «Джама-а-айка!» (имеется в виду песня Giamaica, которая была популярна в СССР в исполнении Робертино Лоретти — прим. «Матч ТВ»).
— Голодать вашей семье не приходилось в послевоенные годы?
— Чтобы прямо голодать — нет. Но знаю, какие у родителей сложные ситуации были. Чтобы отца вылечить и купить ему лекарства, мать ездила продавать яблоки. Собирала их и отвозила, например, аж в Сталинград. И потом на вырученные деньги покупала лекарства отцу, его восстанавливала, лечила. Ну и в целом с питанием были сложности. В очередь за простым черным хлебом стояли часами. При этом не вспоминаю, чтобы жили впроголодь.
Помню, когда мать осталась с моей сестрой в Буйнакске, а я, брат и отец уехали в Хасавюрт, то там мы кушали в основном консервы, кильку… Но потом мать приехала. И когда я в каких-то ситуациях жаловался ей, что есть нечего, она отвечала: «Сахар есть, хлеб есть, масло есть, сыр есть, чай есть — что ты еще хочешь?»
— В 53-м году умер Иосиф Сталин, и люди по-разному вспоминают этот момент. Как он отложился у вас?
— Страна плакала. Из тех, кто меня окружал, все плакали. Большая часть населения действительно плакала. Они верили ему. Он же выходил после войны как победитель, наш лидер и человек, который «принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием». Сталин не уехал никуда из Москвы, хотя ему говорили, что надо. И положительное отношение к нему было безоговорочным у абсолютного большинства.
— Есть же репрессированные, так или иначе.
— Да, были.
Я не политик, политиков не люблю, потому что они постоянно врут. И какие-то оценки общественно значимые давать не хочу.
Говорю как есть. У нас в семье к Сталину все относились хорошо. Причем мой дед по отцовской линии в белогвардейской армии служил, был офицером «Дикой дивизии». Тем не менее отец был явным коммунистом. Другое дело, что со временем он уже начал к коммунистическим лидерам относиться жестко. Считал, что они предали идеи, коммунистическую идеологию: жили собственными интересами, а не интересами государства. Как, например, Горбачев, которого отец называл болтуном, и Ельцин. И оказался прав. Развалили страну, не знали и не понимали, что делали и куда мы шли. А если понимали, тогда вообще негодяи.
— Но сперва вам нравились идеи Горбачева?
— На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева — то, что надо нашей стране. Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать — две большие разницы. Да, общество должно быть демократичным. Но демократия — это не значит бардак. Горбачев устроил в стране бардак. Можно было все сделать по-другому. Как это сделал, допустим, Китай.
— Из-за того, как было тяжело в послевоенные годы, вам не пришлось рано идти работать, чтобы помогать семье?
— Нет. Вот брат старший рано пошел работать — где-то с 16-17 лет. В школах тогда ввели производственную практику, и мы с 9-го по 11-й класс два раза в неделю ходили на завод — кто слесарем, кто токарем, кто еще кем-то. А уже затем мне довелось в Петербурге поработать.
— Это та самая история, когда вы поехали поступать в университет, но не получилось?
— Да. Не вышло, потому что у брата свадьба была, и мой аттестат не могли найти — дома слишком много всяких разных перестановок случилось. А билет был куплен уже. Думал, надо все равно ехать, а там дошлют аттестат. Дослали уже после окончания срока приема документов. В итоге начал работать, пошел на деревообрабатывающий завод. Сначала подсобным работником. Потом делал поддоны. Норма была 250 поддонов, а мог сделать и 400-500. В какой-то момент бригадир подошел и сказал, чтобы осторожен с этим был: мол, потом расценки срежут, и буду получать те же деньги, но уже за норму гораздо выше.
Жил в общаге с работягами. Когда получка приходила, они покупали картошку, потом комбижир, хлеб и все остальные деньги на «смазочное горючее» пускали (смеется). Потом приходили и просили: «Дай рубль-два». Но надо сказать, что в получку все долги отдавали, не в пример нынешним временам. Кто не отдал долг, становился, по сути, изгоем.
Год отработал, затем поступил на заочное отделение и уехал. Хотя хотел на очное: по зрению не прошел. Я еще спорил. Но мне говорили: «Вам нельзя получать значительную физическую нагрузку».
«Малофеев говорил, что жизнь кого угодно мордой об асфальт протрет. У меня было много таких моментов»
— Помните, когда футбол в вашей жизни стал появляться?
— С самого детства. Точно так же, как и борьба. У нас в Дагестане мы везде боролись, на улице тоже. Ну и с футболом то же самое. Это еще в Буйнакске было, а когда переехали в Хасавюрт — особенно. Там еще стадион стоял недалеко, всегда был битком на матчах.
— В каком возрасте вы переехали в Хасавюрт?
— В десять лет.
— Детство больше с этим городом ассоциируется или все же с Буйнакском?
— С обоими. И там, и там был двор, знакомые ребята, спорт. Но в Хасавюрте я был постарше, и воспоминаний о нем осталось больше. Целые сутки занимались спортом: сначала в футбол играли, потом в баскетбол, следом боролись, а затем шли в спортзал, который сами построили. Штангу поднимали на спор, боролись на спор…
— Вы уже упомянули, что рано поняли, что хотите тренировать. Как именно это случилось?
— Читать много стал. Понимал, что плохо вижу, особенно когда темнело, и из-за этого стать хорошим футболистом едва ли смогу. Наш тренер часто на тренировках подшучивал: «Гаджи, где мяч?» (смеется). Тем не менее в 14 лет я впервые уже за взрослую команду сыграл в чемпионате Дагестана.
— Сильно расстроились, когда поняли, что продолжать играть самому — не вариант?
— Не помню, что особо расстраивался. Все время был занят: или играл и тренировал, или что-то читал. И нельзя сказать, что понял, что делать дальше… Но точно очень хотел тренировать и говорил об этом председателю спорткомитета города. Он тогда тренировал юношескую городскую команду, но не всегда мог присутствовать на тренировках. А мне ребята потихоньку начали доверять. И где-то с конца 61-го года я стал тренировать своих сверстников в Хасавюрте. Мы тогда юношеский чемпионат республики выиграли.
— Как вы стали тренером взрослой команды в махачкалинском «Динамо»?
— В 70-м году я закончил заочно институт и на тот момент уже лет пять-семь успешно тренировал взрослую команду в чемпионате Дагестана. Уже сложилось какое-то мнение обо мне в республике. Так в 72-м году председатель дагестанского совета «Динамо» пригласил меня. Причем при активном участии судьи всероссийской категории по баскетболу Килаберия, который десятью годами ранее удалил меня с поля в ходе товарищеского матча как раз против махачкалинского «Динамо» (смеется).
— Как сразу удалось добиться авторитета у футболистов, когда вы молодой тренер и только пришли работать в главную команду республики?
— Меня представили команде, и старший тренер говорит мне: «Проведи тренировку, а я поеду по делам». Даже не обозначив, что именно и как проводить. Несерьезный подход был. Я пришел на занятие. Выйдя на поле, минут пять оценивал, что делают игроки, и увидел одного, который был наиболее голосистым — крупный такой мужичок. Ну, я свистнул, они встали в шеренгу. Вызываю этого мужичка из нее как раз и говорю: «Как тебя зовут? Вот тебе свисток, проведи разминку. Можешь?». Он удивился и радостно ответил: «Могу». Вот с этого все началось. Пока он разминку проводил, я продумал упражнения, которые им надо дать.
— И все сразу соглашались? Не было проблем ни с кем?
— Конечно, проблемы были. Иногда приходилось проявлять жесткость. В то время я был гораздо жестче, чем сейчас, несмотря на то что только начинал работать. Думаю, сейчас я гораздо мягче… Но, конечно, тогда бывали разные ситуации. Хотя в целом по итогу у меня сложились нормальные отношения со всеми.
Причем у руководителей были вопросы, почему ко мне футболисты по имени без отчества обращаются. И я обозначил, что для меня это никакого значения не имело. Все-таки в составе был и заслуженный мастер спорта Валера Маслов. Почему он не должен по имени обращаться? Имел полное право. Ведь при всем этом, если я скажу побежать в гору — команда побежит. Это главное.
— Вы в начале своей работы в «Динамо» отчислили 15 футболистов из состава за несоблюдение режима. Как это было?
— Это случилось не прямо сразу. Главный тренер ушел где-то через месяц. И так как команда шла крайне неудовлетворительно и было очень много приглашено игроков, которые, по сути, никак не сложились в коллектив, я начал говорить о том, что надо состав почистить. Все же я очень хорошо знал чемпионат республики, понимал, откуда пригласить новых игроков. Конечно, председатель Дагсовета не сразу согласился на такие шаги, боялся: «Ты же так без команды останешься совсем». Я отвечал: «Это не команда, это игроки, которые нарушают спортивный режим». Они выпивали, играли не изо всех сил, вели вольготную жизнь. В итоге со мной согласились, а мы уже потом с 18-го места из 22 поднялись на 12-е. При этом в семи последних матчах не проиграли никому.
— Опыт работы в Петербурге на заводе помог вам уже в работе тренера в плане понимания, как мыслит обычный рабочий человек?
— У Александра Розенбаума есть хорошие стихи: «Отчим, гад, пропал на БАМе, на него не держим зла: всё, что было в этой жизни, всё не зря». И действительно, все не зря. Тот период был тоже испытанием. Но я его нормально выдержал. Конечно, этот опыт помог в формировании характера. Жизнь такая штука, которая учит всему. Как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, жизнь кого угодно мордой об асфальт протрет. Это сложное испытание. Не каждый сможет пройти по нему правильно, не сломавшись.
— Был ли у вас момент, когда вы почувствовали, что жизнь именно мордой об асфальт протирает?
— Таких моментов много было. И не только у меня, у каждого сложные эпизоды случаются. Например, когда полтора суток под капельницей лежал. Ну или тех же несправедливых решений в клубах тоже много было. Но давайте лучше о другом.
«После победы на Олимпиаде хорошо встречали везде. Ничего не предвещало событий 1991–1992 года. А потом случился раскол и в футболе»
— В 1980-х вы поехали работать в бакинский «Нефтчи» в начале перестройки. Как это в Азербайджане ощущалось?
— Там как раз Лигачев начал виноградники вырубать — тоже дикость. И тогда в Баку начали потихоньку коньяк в чайник наливать… Например, на застольях. Собирался народ, который имел какую-то власть: руководители, секретари, председатели… А мы, как популярная команда, оказывались там и видели это: когда что-то отмечали, то наливали коньяк в чайник, так как по цвету похож. Не знаю, правда, от кого они прятались. Там же никого не было чужого. Но почему-то так делали.
— Уже тогда было ощущение, что что-то в перестройке может пойти не так?
— Сложно сказать. Понятное дело, что мы куда-то шли. Вообще, всю эту ситуацию лучше всего охарактеризовать высказыванием, которое я услышал в Италии, куда мы поехали на сборы перед Олимпиадой. Поездку организовывала итальянская компартия. И один из заместителей секретаря компартии Италии устроил торжество, организовал нам встречу в ресторане. Он нам говорил: «Хозяин этого ресторана капиталист, а я коммунист, но мы с ним дружно живем. У вас этого нет». И вторая фраза от него запомнилась: «Вы слишком быстро меняете образ жизни. В этом случае неминуемо какое-то крушение». А мы тогда, наоборот, думали, что мы слишком медленно перестраиваемся. Их мысль была более верной. Слишком быстро хотели все поменять, и в результате ждал стремительный распад и какая-то разруха.
— На ваш взгляд, этой разрухи можно было избежать?
— Не думаю. Можно было бы избежать, если бы руководители страны были здравыми. Мне кажется, там здравомыслящих не осталось в тот момент. Что они делали — это безобразие. И когда идет такой накат, его уже не остановить.
— При этом выступление сборной СССР на Олимпиаде в такой период оказалось более чем удачным. Кто конкретно вас позвал в штаб?
— Естественно, Бышовец. Колосков позвонил мне, когда я был в Баку, и сказал, чтобы приезжал в Москву: «Мы открываем здесь центр сборных команд. Решили, что будешь руководителем этого центра». Он меня уже хорошо знал. Из «Нефтчи» меня не хотели отпускать сперва, но все-таки руководители Баку и спорткомитета СССР договорились. И в этом центре мы впервые повстречались с Бышовцем. После двух-трех встреч Анатолий Федорович сказал: «Буду просить, чтобы ты начал помогать мне в олимпийской сборной».
— Сейчас победа в финале олимпийского турнира над Бразилией звучит как сказка. Тогда более обыденно воспринималось?
— Обыденностью это точно нельзя назвать, потому что у них была очень сильная команда. Несколько человек из того состава потом стали чемпионами мира. Те же Ромарио, Таффарел, Бебето… Так что невозможно было однозначно сказать, что победа только за нами должна была быть. Однако она точно не была случайной: до этого мы за все время вообще ни одной игры не проиграли — ни в отборе, нигде.
В полуфинале и финале мы выиграли в дополнительное время, что говорит о том, какая у нас была волевая команда. Но помимо характера было еще и мастерство, особенно у таких игроков, как Михайличенко, Добровольский, Харин… Это были действительно очень талантливые футболисты. А матчи решающие очень сложные были: что с Бразилией в финале, что против Италии в полуфинале.
— В Москве как встречали после победы на Олимпиаде?
— Встречали хорошо везде. И на стадионах, и на улицах. Все было хорошо, ничего не предвещало событий 1991–1992 года. И тогда разрушение, раскол случились не только в жизни, но и в футболе.
Мы ведь тогда с национальной сборной не проиграли ни одного матча. Выиграли отбор на ЕВРО, в том числе обошли Италию. Но только выиграла отбор сборная СССР, а уже на чемпионате была команда СНГ, ехали под другим флагом… Ситуация отразилась на всем. При подготовке к финальным матчам чемпионата Европы к нам пришел заместитель премьера России, чтобы дать какие-то напутствия. И Михайличенко, который уже был представителем другой страны, спросил: «А вы кто такой вообще? Что вы нам здесь рассказываете?» Вот такое настроение было.
Турнир тогда в 1992-м вышел неудачным для нас по разным причинам. И во многом потому, что флаг поменялся. Флаг — это знамя, которое нас объединяло и которого мы лишились прям перед началом ЕВРО. Потеря стержня, основы всегда вызывает проблемы и в деталях. При всем этом мы не проиграли на турнире чемпионам мира и Европы — немцам и голландцам. И в последнем туре в группе нас ждала Шотландия, которая уже вылетела, по сути. Об этом матче даже не хочется вспоминать…
— Если брать результаты после Олимпиады в целом, то можно сделать вывод, что у Бышовца не получилось со взрослой сборной.
— Что значит со взрослой? С национальной, хотите сказать? В олимпийских турнирах прежде участвовали взрослые профи.
Не согласен, что у Бышовца не получилось с национальной сборной. Когда после Олимпийских игр он принял команду, то отбор прошли без единого срыва. При Бышовце олимпийская и национальная сборная провели 25 официальных игр вообще без единого поражения. А если вместе с товарищескими — около 70 матчей. И вот единственное поражение — от шотландцев на ЕВРО.
Анатолий Федорович — очень одаренный тренер, который был отличным психологом, очень хорошо чувствовал игру, понимал ее и вносил точные правки в действия отдельных футболистов. Если, к примеру, Лобановский больше акцентировал внимание на коллективных действиях и его замечания в основном касались действий отдельных групп игроков и команды в целом, то Бышовец очень хорошо подмечал индивидуальные нюансы, исправлял конкретные просчеты каждого игрока.
— Но заход уже в сборную России в 1998-м и правда был неудачным.
— Да, верно, только у кого в этот период получилось? Ни у кого. И не потому, что не хватило способностей у Садырина, у Игнатьева. Вся страна была в раздорах. Это коснулось и футбола и не шло пользу ни игре, ни отдельным личностям.
«Благодарен Керимову за все, что он делал для «Анжи». Сейчас он нам помогает и в «Динамо». Хотелось бы, чтобы он оставался с командой»
— Вы возглавили «Анжи» в 1999-м. Можно сказать, что решение приступить к самостоятельной работе назрело в том числе из-за усталости от этих распрей, свидетелем которых вы вольно или невольно становились?
— В какой-то мере да. Недовольство всей этой болтовней у меня было. Болтали что угодно. В целом мне нравилось работать в РФС и тренером разных сборных. Но на фоне неудачных выступлений сборных команд страны пошла резкая, порой абсурдная критика в адрес тренеров и заявления о необходимости революционной смены курса и кадров.
— Захотелось что-то доказать этим критикам?
— Да. Был спор, и появилось желание на конкретном примере показать абсурдность этой критики. И как раз до этого я выезжал в Махачкалу, меня туда направлял РФС для методической помощи «Анжи». Туда и поехал главным. Вы правильно подметили, что эти все ситуации в сборных надоели.
— Спустя годы как объясняете, что практически сразу вывели «Анжи» в высшую лигу, стали там четвертыми и пробились в финал Кубка?
— Это все огромная работа тренеров, игроков — всей нашей команды. Могу сказать, что такой объемной и напряженной по содержанию работы у меня не было ни в одной команде на протяжении последующих двух десятков лет. Возможно, потому, что стартовая площадка, то есть состав команды и уровень ее готовности, в каждом следующем клубе была иной. В «Анжи» было немало футболистов без серьезного профессионального прошлого. Поэтому только через многочисленные практические и теоретические занятия можно было достигнуть желаемого результата. Сперва шли две тренировки, 1 час 40 минут каждая, а потом еще могла быть пара часов в тренажерном зале.
— Тот «Анжи» для вас гораздо ближе, чем звездный в начале 2010-х?
— Да, наверное. Вот недавно и Сергей Алимович говорил, что та команда была ближе к народу. Но надо сказать, что «Анжи» с мировыми звездами многое дал Дагестану и продвинул игру в регионе. Жаль, что этот период продолжался недолго, и последовавшая «засуха» привела к оттоку болельщиков.
— Что можно было сделать с тем звездным «Анжи», чтобы затем избежать стремительного падения?
— Те, кому доверили управление клубом, захотели слишком быстро достигнуть результатов. Ну и, по-видимому, заработать… Не понимая, на какой стадии развития находится клуб, менеджеры принимали неверные управленческие решения. И не надо торопиться, как мы уже выше подмечали. Ведь чем более высокими темпами развиваешься, тем сложнее синхронизировать эффективность с результатом. Когда ты скачешь галопом, то хочется чего-то больше. Это превращается в снежный ком, с которым ты впоследствии не справляешься.
— Когда вы работали тренером «Анжи» и вам покупали звездных игроков, вы понимали, к чему это может привести?
— Считал, что мы торопимся. При этом я благодарен Сулейману Абусаидовичу Керимову за все, что он делал. И сейчас он нам в «Динамо» тоже помогает. Если бы не его помощь, не знаю, как бы мы выглядели. Смогли бы мы играть на своем стадионе или нет.
— Можно сказать, что он сейчас больше прислушивается к вам?
— Он настолько талантливый человек, у него неординарное мышление, очень сильная личность… Поэтому сложно сказать, насколько прислушивается. Но хотелось бы, чтобы он оставался с командой.
— В «Анжи» при Керимове вы работали с Роберто Карлосом и Самюэлем Это’О. Что они глобально дали команде?
— Важными и заслуживающими уважения и внимания, как ориентиры для других игроков, были самые простые вещи. Это в высшей степени профессиональные отношения. Я говорил Роберто Карлосу: «Слушай, у тебя сил вагон. Мышцы ног эталонные. Тебе необязательно идти в тренажерный зал». Он отвечал: «Тренер, команда идет туда, и я должен быть там».
Это’О же наводил порядок. Всегда соблюдал правила, нормы. Объединял коллектив. И даже когда я уже в «Амкаре» работал, у нас был сбор в Турции, куда я пригласил Самюэля на обед с нашей командой. Он пришел и на обеде произнес нашим ребятам фразу настоящего профессионала: «На поле есть только одна звезда — это команда. Вы должны помнить, что должны играть на команду». Хотя к тому времени он уже три раза выиграл Лигу чемпионов.
— При взгляде на тот «Анжи» как раз создавалось впечатление, что это просто набор звездных футболистов, а команды нет.
— Команды не может быть, если в управлении принимают участие некомпетентные лица. Например, как можно перевозить команду со сборов в Испании в Дубай, не согласовав это с главным тренером? И это при таком авторитете Гуса Хиддинка! В итоге и получилось так, что они оказались не готовы к чемпионату, сыграли вничью и два матча проиграли из четырех стартовых.
«Нет уверенности, что махачкалинское «Динамо» твердо стоит на ногах. Нужно стремиться хотя бы относительно стать финансово устойчивыми»
— РФС вас дважды признавал лучшим специалистом сезона. Неужели ни один московский клуб ни разу не звал вас на пост главного тренера?
— Только с московским «Динамо» мы были близки к соглашению, там были переговоры с руководством. Но это единственное, что было. Это как раз после нашего успеха с «Анжи» было — 1999 или 2000 год. После еще были разговоры про ЦСКА, всякие разные звонки со стороны. Но какой-то предметный разговор, который дошел до последний ступени, был только с «Динамо».
— Почему не получилось?
— Не знаю. Не дождался ответа и уехал в Японию (с 2001 по 2002 год Гаджиев работал в японском клубе «Санфречче Хиросима» — прим. «Матч ТВ»).
— В одном из интервью вы сказали, что махачкалинское «Динамо» — более основательный клуб в плане организации, чем «Анжи» конца 1999 года. А если сравнить с «Анжи» времен Керимова?
— С точки зрения организованности и дисциплины я не скажу, что нам далеко до этого уровня. Но есть еще финансирование — это же тоже одна из определяющих вещей, которая позволяет ввести какие-то дополнительные единицы для более эффективного управления. Здесь мы, конечно, проигрываем. Чем выше уровень финансирования и его организации, тем больше возможностей у клуба. Если этого нет, то один-два года выдерживаешь, а потом валишься.
— Сейчас, в 2025 году, у вас есть уверенность, что клуб в финансовом плане твердо стоит на ногах?
— Нет уверенности. Конечно, пока Сергей Алимович глава республики, есть уверенность в будущем. Но в российском футболе не выстроены финансовые механизмы, оттого так много клубов, ушедших в небытие.
— Какие ближайшие цели ставите перед клубом на ближайшие пять лет?
— Вот как раз мы должны стремиться стать хотя бы относительно финансово независимыми, устойчивыми. Это главная задача.
Вторая задача — готовить хороший резерв. Если он будет соответствовать требованиям РПЛ, тогда нам меньше придется ресурса тратить на трансферы, от которых тоже никуда не деться, естественно. Ну и важно, чтобы трибуны заполнялись, а для этого надо, чтобы команда хорошо играла, находилась в РПЛ десятки лет.
Понятное дело, что любой руководитель хочет выигрывать турниры. Мы тоже хотим, но если реально смотреть на вещи, то надо сперва разобраться с уже названными задачами.
— Как бы вы хотели, чтобы люди говорили о Гаджиеве-тренере и Гаджиеве-человеке в будущем?
— Всегда вспоминаю разговор, когда мы еще были юношами. Мой друг говорил мне: «Хочу, чтобы меня все боялись». А я отвечал: «Этого бы мне не хотелось. Хотел бы, чтобы меня все уважали».
Хотелось бы, чтобы обо мне сохранилась память как о нормальном человеке, который знал свое дело, отдавал силы, энергию для подготовки игроков и тренеров. Как уже говорил, мой отец по образованию был учителем и очень любил эту профессию. Я в итоге стал тренером. И это все равно тоже педагог, учитель в первую очередь. Потом все остальное.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите в эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.